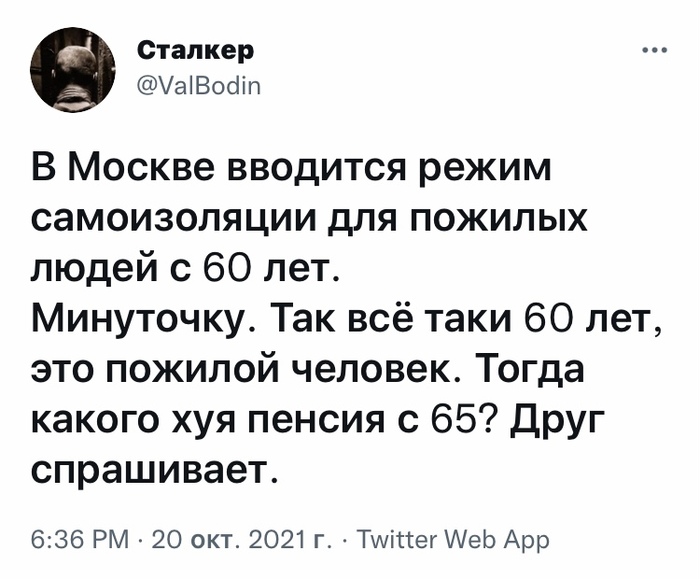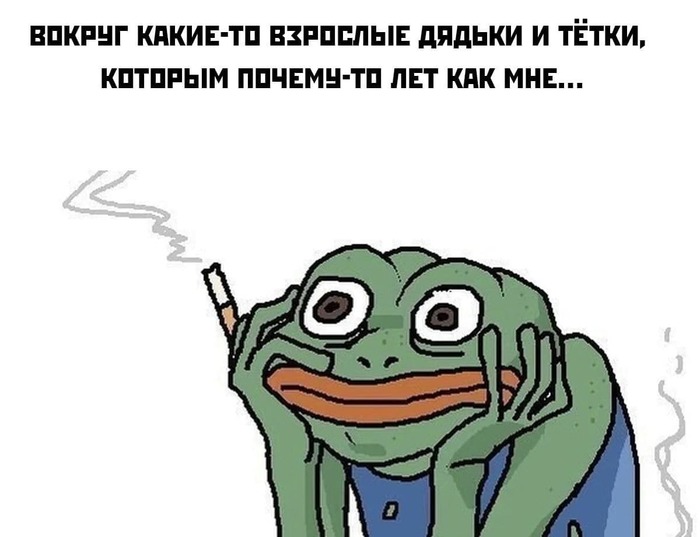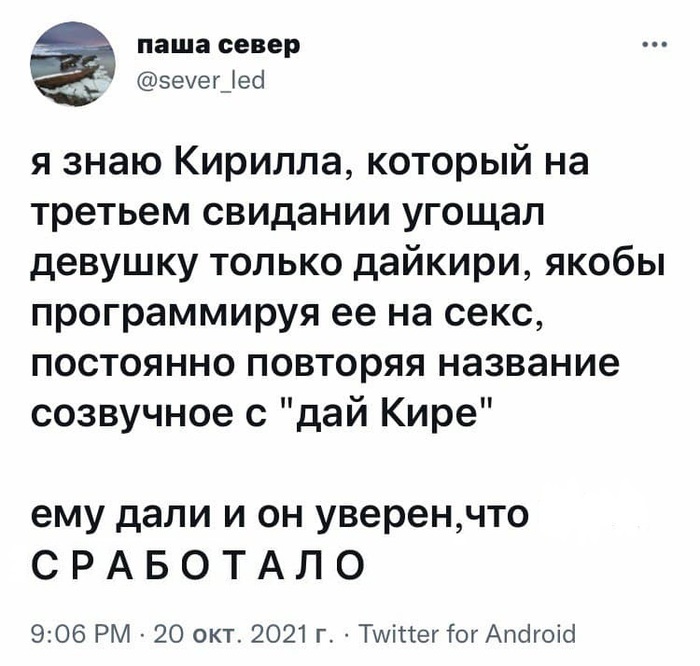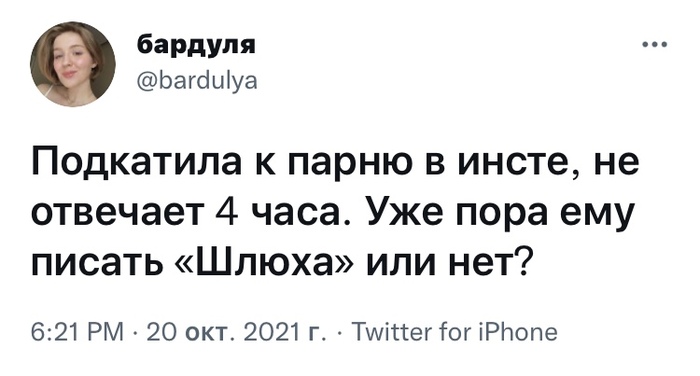театр жизнь театр а люди в нем актеры шекспир оригинал
Весь мир театр, а люди в нем актёры. Ессе о фразе
Весь мир – театр, а люди в нем – актёры.
Вся жизнь – театр, а люди все – актёры.
Эти две фразы наиболее известны и приписываются Уильяму Шекспиру (1564 – 1616), который применил один из вариантов в своей пьесе «Как вам это понравится». Это – так, но совсем не так однозначно.
Глубина и точность формулировки впечатляют всех.
Но на самом деле Шекспир сказал почти, но не настолько так, чтобы можно было пренебречь смысловой разницей. Но, если это – верно, а, как будет показано далее, это – верно, то мы восхищаемся не сказанным Шекспиром, весьма ограниченным в оригинале, смыслом, а смыслом более широким, возникшем в художественном русском переводе.
Конечно же, исключить влияние оригинала Шекспира на его русский перевод невозможно, так как идеи, заложенные и там, и там – родственные и похожие по смыслу друг на друга, также как слова, обозначающие целое и его часть. И не было бы никакой необходимости в выделении этих различий, если бы Шекспир сам, тут же, не указал в последующем тексте на тот, исключающий другое понимание, ограниченный смысл, который он вложил в первую фразу.
Поэтому, для фразы, которая в русской интерпретации стала, чуть ли не девизом всего искусства, было бы не справедливо приписывать её только Шекспиру и при этом полностью игнорировать роль неизвестного переводчика. Кто он? Мне не удалось найти. Те переводы оригинала на русский язык, которые мне известны, относятся к концу 19-ого и 20-му веку и уже повторяют основу фразы: «мир – театр». Однако, предполагают, что Шекспиром в России заинтересовались ещё в 18-м веке и уже тогда ставили его пьесы. Например, некоторые пьесы Шекспира упоминал в своих статьях и письмах Александр Пушкин, говоря при этом, что уже переведены и другие, которые нужно изучать («Наброски предисловия к «Борису Годунову» (1829 и 1830), а также в письмах к Вяземскому и Бестужеву (1825). В частности, он сравнивает героев Шекспира с героями Мольера: Шейлока («Венецианский купец» Шекспира) и Гарпагона («Скупой» Мольера), что указывает на то, что пьеса «Венецианский купец» (1596) была во времена Пушкина уже переведена. Для нас же это важно тем, что в этой пьесе Шекспир впервые применил словосочетание: «the world’s a stage», которое потом было использовано им в пьесе «Как вам это понравится», свидетельств перевода которой во времена Пушкина и ранее пока не найдено.
Если же такое предположение о более ранних переводах так и не найдёт подтверждения в архивах, то только тогда можно назвать 1867 год точкой отсчёта, когда перевод пьесы «Как вам это понравится» был выполнен П. Вейнбергом (издан в 1899 г.), и было зафиксировано применение словосочетания: «мир – театр» в одном предложении.
Именно, краткость и ёмкость фразы – заслуга переводчика, сумевшего выразить идею в одном предложении, так как сама идея принадлежит, все-таки, Шекспиру, но расписана у него весьма подробно в двух длинных сложносочинённых предложениях, и совсем не в том месте, куда его ставят переводчики..
ANTONIO: I hold the world but as the world, Gratiano-
A stage, where every man must play a part…
Для всех, известных мне, переводчиков не составило труда перевести эту реплику без всякого пафоса и краткости, ровно так, как её сказал герой Шекспира.
Например, перевод П. Вейнберга (1866):
Я этот мир считаю
Лишь тем, что есть на самом деле он:
Подмостками, где роль играть все люди
Обязаны…
(Источник: Уильям Шекспир. Двенадцатая ночь. М., «ЭКСМО», 2002)
Или, перевод И. Сороки:
Нет, Грациано, я смотрю на мир
Всего лишь как на сцену, где обязан
Каждый играть какую-нибудь роль…
Источник: Шекспир Уильям. Комедии и трагедии. М., «Аграф», 2001.)
Или, перевод И. Мандельштама:
Я мир считаю тем лишь, что он есть.
У каждого есть роль на этой сцене;
(Источник: Вильям Шекспир. Избранные произведения. ГИХЛ, М.-Л., 1950)
«Мир – подмостки», «мир – сцена», вот как они переводят фразу «the world’s a stage», когда идея не разжёвана Шекспиром и сказана, как бы, мимоходом. Даже упущение в переводах других возможных значений «мир – спектакль, постановка», не существенно в контексте фразы, так как далее у Шекспира нет никаких пояснений.
Но сам Шекспир не забыл этой идеи и через несколько лет повторил её зачин «the world’s a stage» слово в слово в пьесе «Как вам это понравится» (1599 или 1600 г.), в монологе Жака (акт II, сцена VII).
All the world’s a stage,
And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.
И вот тут, вряд ли, забыв свои же переводы «Венецианского купца», а скорее, вдохновлённые разъяснениями Шекспира, все переводчики, не сговариваясь, ухватились за возможность построения короткой, ёмкой и красивой фразы с зачином «мир – театр».
Например, перевод П. Вейнберга (1867):
Мир — театр;
В нем женщины, мужчины, все — актеры;
У каждого есть вход и выход свой,
И человек один и тот же роли
Различные играет в пьесе, где
Семь действий есть.
(Источник: Шекспир В. Полное собрание сочинений / Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1903. Т. 3. С. 2-58.)
Или, перевод Т. Щепкиной-Куперник (1937):
Весь мир – театр.
В нем женщины, мужчины – все актёры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той.
(Источник: Шекспир В. Полное собрание сочинений: В 8 т. / Под ред. А. А. Смирнова. М.-Л.: Academia, 1937, Т. 1. С. 239-360).
Или, перевод А. Флори (2007):
Весь мир – театр, и люди в нем – актёры.
Идут на авансцену, чтоб сыграть
Семь актов всё одной нелепой драмы
И навсегда уйти в кромешный мрак.
(Источник: Интернет )
Но почему? Ведь в приведённом выше тексте оригинала нет упоминания «театра». В английском языке есть точное слово «theatre» и многозначное «stage». Первое употребляется только в значении «театр», а второе употребляется в значениях, являющимися составными частями театра, т.е. «сцена», «подмостки», «спектакль», «пьеса», «постановка». Очевидно, что Шекспир, если бы желал выразить свою идею здесь и в одной фразе, воспользовался бы словом «theatre». Кроме того, в пятой строке, приведённого отрывка из монолога Жака в оригинале, Шекспир указывает на тот «stage» из первой строки – «his acts» (его акты) – так как ни одно из других существительных предыдущего текста не может иметь «актов», чтобы не превратить этот текст в бессмыслицу. Поэтому этим указанием Шекспира исключаются такие значения «stage», как «подмостки», «сцена», а тем более «театр», и оставляются только значения «спектакль», «постановка», «пьеса», которые только одни и могут делиться на «акты», связывая этим смыслы начала и продолжения.
И в переводах мы видим, как переводчики, прекрасно понимая это, пытаются связать «театр» и «акты», вводя от себя промежуточные указания на «пьесу» (П. Вейнберг, Т. Щепкина-Куперник), «драму» (А. Флори) или даже «жизнь» (В. Левик). При этом все, как один, упускают из вида, а скорее, просто уже не находят места, чтобы внести ещё одну связку в текст, что «актёры» в «театре», конечно могут «иметь входы и уходы», но совсем не в том смысле, который имеют эти «входы и уходы» в «спектакле» или «пьесе». В первом случае смысл сказанного указывает на некие потайные личные двери в здании «театра», что противоречит конструкции «театра», где, конечно же может быть несколько тайных дверей, но, опять же, не столько, чтобы – для «каждого актёра», что, в конечном итоге, делает сомнительной фразу в целом. Во втором случае, указание на «входы и уходы» актёров в «спектакле», «постановке», «пьесе» – вполне логично и представляет в них процесс действия актёров, которые выходят в начале роли и уходят, закончив свою роль. Однако, видимо, считая, что красивая фраза в начале, которую не обязательно связывать ни с «входами и уходами», ни даже с «актами», «вытянет» на себе в связке с именем Шекспира весь остальной текст, переводчики пренебрегают зрителем, который, желая услышать подлинного Шекспира, удивляется, как много тому пришлось «нагородить», ради одной хорошей фразы.
Очевидно, что этого бы не было, если бы «stage» сразу было бы ими переведено, хоть даже так, как они потом добавляли, пытаясь сохранить связность смысла. Но тогда, вот – печаль, пришлось бы пожертвовать красивой фразой в начале, но зато, казалось бы, восстановить подлинную идею Шекспира, хоть и не настолько красивую. Почему же переводчики, всё-таки, идут на, казалось бы, очевидное искажение текста Шекспира?
Ответ находится в предыдущей реплике Старого Герцога, на которую Жак и отвечает своим монологом.
Thou seest we are not all alone unhappy:
This wide and universal theatre
Presents more woeful pageants than the scene
Wherein we play in.
Как видим, Шекспир, действительно, применил слово «театр» и вместе с ним объяснил всю идею, но только в двух предложениях – в реплике Старого Герцога и в начале монолога Жака.
Но в переводах мы видим обратный процесс – для того, чтобы вывести «theatre» по смыслу в начало монолога Жака, переводчики либо исключают его из реплики Старого Герцога, заменяя похожими подводками, либо, не заморачиваясь, просто повторяют в монологе Жака то, что уже было сказано в реплике Старого Герцога.
Например, перевод П. Вейнберга (1867):
Вотъ видишь — мы несчастны не одни:
На мировой, необозримой сцене
Являются картины во сто раз
Ужаснее, чем на подмостках этих,
Где мы с тобой играем.
(Источник: Шекспир В. Полное собрание сочинений / Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1903. Т. 3. С. 2-58.)
Или, перевод Т. Щепкиной-Куперник (1937):
Вот видишь ты, не мы одни несчастны,
И на огромном мировом театре
Есть много грустных пьес – грустней, чем та,
Что здесь играем мы!
(Источник: Шекспир В. Полное собрание сочинений: В 8 т. / Под ред. А. А. Смирнова. М.-Л.: Academia, 1937, Т. 1. С. 239-360).
Или, перевод В. Левика:
Ты видишь, Жак, не мы одни несчастны,
И много есть ролей на сцене мира
Грустней, чем та, что мы с тобой играем.
(Источник: Вильгельм Левик. Избранные переводы в двух томах. Т. II. М., «Художественная литература», 1977).
В общем, при таких перестановках в переводе, в идеале, искажается только порядок, в котором Шекспир подаёт свою идею, что почти не влияет на образы персонажей, обменявшихся между собой частями смысла одной идеи. Но в данном случае идеала не получается, так как вставляя «театр» в середину общего полотна объяснений (в монолог Жака (Ж)), а не в начало, как у Шекспира (в реплику Старого Герцога (СГ)), переводчик вынужден повторять смысл, им же ранее изменённой, реплики Старого Герцога, чтобы связать смыслы внутри монолога Жака.
Сравним то, от чего исходят и к чему приходят переводчики, проходя через «театр». «Сцена (СГ) – театр (Ж) – пьеса (Ж)» (П. Вейнберг). «Театр (СГ) – пьеса (СГ) – театр (Ж) – пьеса (Ж)» (Т. Щепкина-Куперник). «Сцена (СГ) – театр (Ж) – жизнь (Ж)» (В. Левик). Как видим, у всех присутствует, как минимум, один лишний элемент в логической цепочке по сравнению с Шекспиром, который обошёлся двумя: «театр (СГ) – спектакль (Ж)». Понятно, что потерь в других местах текста было не избежать, и вовсе не потому, что английские слова короче русских.
Итак, с подачи Шекспира русские переводчики увлеклись красивой фразой, нарочно осложнив себе перевод. Это было сделано, именно, нарочно, так как нельзя сказать, что они не знали верного перевода, судя по их переводам «Венецианского купца».
Но что же стало с соседним текстом этой пьесы, т.е. со всем окружением красивой фразы? А вот тут, как было показано, мы вынуждены признать, что пьеса в этом месте стала неудобно, частично связанной, дополненной отсебятиной и повторами переводчиков, потерявшей подлинный текст Шекспира.
При этом, с несущественной разницей, короткая, ёмкая, красивая и ясная фраза, которую всем переводчикам удалось скомпоновать из длинного текста Шекспира стала выражением константы искусства в русской интерпретации.
Этот этап завершён, так как достиг своей цели. Фраза, вынесенная в заголовок, принадлежит и Шекспиру, и нам всем.
Но когда же Россия узнает подлинную пьесу Шекспира?
Может быть, язык Шекспира также ясен и в других местах пьесы? Как это узнать, когда те, кто призван точно переводить, вместо этого соревнуются с Шекспиром?
Вильям Шекспир: Весь мир – театр, а люди в нем актеры
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той.
Ревущий громко на руках у мамки.
Потом плаксивый школьник с книжкой сумкой,
С лицом румяным, нехотя, улиткой
Ползущий в школу. А затем любовник,
Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
В честь брови милой. А затем солдат,
Чья речь всегда проклятьями полна,
Обросший бородой, как леопард,
Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
Готовый славу бренную искать
Хоть в пушечном жерле. Затем судья
С брюшком округлым, где каплун запрятан,
Со строгим взором, стриженой бородкой,
Уж это будет тощий Панталоне,
В штанах, что с юности берёг, широких
Для ног иссохших; мужественный голос
Сменяется опять дискантом детским:
Пищит, как флейта. А последний акт,
Второе детство, полузабытье:
Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего».
Монолог из комедии Вильяма Шекспира: Как вам это понравится / As You Like It.
Изображения в статье
Изображение Николай Оберемченко с сайта Pixabay
Дубликаты не найдены
Вопрос
Быстрее. Выше. Сильнее
Да как так-то?
Спасибо трактористу
Сегодня весь день в городе шёл дождь.
Я шел под жд мостом, там проходит дорога и скапливается вода.
Пройти нереально, машины пролетают на скорости и заливают тротуар. Я стою под дождем и не могу пройти. И тут, проезжает трактор, видит данную картину, сигналит и тихонько проезжает давая мне возможность параллельно идти. Реально помог, маленькое дело, но огромная помощь.
Подняли настроение
Июнь, Петроградка. Я за рулем, рядом взрослая дочка. Красный светофор, стоим. Поравнявшись с нами, притормаживают ребята на скутере. Молодые, влюбленные в жизнь и друг в друга. Смешной парень в веснушках. Позади него девушка, будто из кино, какая-то нереально питерско-летняя. Платье ситцевое, ветровка, волосы по ветру, на спине рюкзачок. Одной рукой обнимает парня, в другой букет ромашек. Я любуюсь на ребят. Они как будто светятся счастьем. Девушка поворачивает голову, улыбается и протягивает ромашку. Дочка опускает стекло и принимает бело-желтое чудо. А девчушка, смеясь, протягивает вторую, для меня. Загорается зеленый, мы трогаемся. Девушка с парнем, влюбленные друг в друга и в лето, остаются позади. Ромашки до сих пор стоят в кружке на подоконнике и не думают вянуть. И каждое утро, завтракая, я смотрю на них и улыбаюсь.
Нейролингвистическое программирование
Ответ на пост «Отличие чеченского спецназа от краповых беретов»
– Как узнать по машине, какой экзамен сдаёт человек?
– Если сидит на водительском – сдаёт на права. Если на пассажирском – на краповый берет.
Сначала добейся
Неправильные пчелы
На Reddit спросили жителя многоэтажки в Кудрово на 18 тыс. человек, каково жить в «человейнике»
Пользователь Reddit под ником MrOopee узнал про жилой комплекс «Новый Оккервиль» в петербургском городе Кудрово и поделился его снимками в сабреддите r/interestingasfuck («******** как интересно»). Комментаторы удивились масштабам дома и количеству жителей в нем — около 18 тыс. человек. На это обратил внимание TJ.
Запись попала на главную страницу сайта, из‑за чего в комментариях начали активно обсуждать и шутить над особенностями жизни в таком месте: жалели почтальонов, придумывали названия тысячам Wi-Fi-точек и представляли трудности при поиске пары в Tinder. «Рядом с тобой 9999 одиноких мамочек — кликни, чтобы узнать больше», — пошутил один из пользователей.
Некоторые предположили, что «Новый Оккервиль» — это российский аналог трейлерного парка, однако их все же поправили: такие же многоквартирные дома можно найти и в США, а дом в Кудрово больше напоминает гетто. Но юзерам было непонятно, как можно жить в этом здании, хватает ли парковочных мест, как происходит общение с соседями и как обстоят дела с инфраструктурой.
На эти вопросы ответил житель многоквартирника Everlastsun, проживающий там уже восемь лет. Если коротко: «Да, с парковкой бывают проблемы, но свободное место всегда найдется. И да, иногда бывает мрачновато, но лес и парки поблизости очень помогают».
По его словам, по утрам во дворе бывает очень шумно из‑за машин, которые заводят примерно в одно и то же время, но на выхлопные газы он не жалуется; шумоизоляция в доме слабая; по ночам во дворе «довольно тихо», изредка по пятницам «какой‑нибудь пьяный парень минуту кричит вдалеке — и все».
Everlastsun рассказал, что большинство жителей не участвуют в общедомовой деятельности и ни с кем не общаются. Есть лишь чат собаководов и группы в соцсетях, где можно найти людей со схожими интересами, но в остальном — все сами по себе. Рядом есть торговый центр, а до любого магазина или кафе можно добраться за полчаса. Из‑за нехватки зелени по дворе он проводит как минимум час в парке каждый день.
Комментатор из Кудрово признался, что пока что его все устраивает, но он мечтает переехать в собственный дом. С ним согласился житель бразильского Сан-Паулу, который живет в похожих условиях и не жалуется, но тоже хочет переехать в тихое место. «Удивительно, насколько похожими могут быть желания двух людей на разных концах света», — написал он.
История одной метафоры

And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse’s arms.
And then the whining school-boy, with his satchel,
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woful ballad
Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths, and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bobble reputation.
Even in the cannon’s mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lin’d,
With eyes severe, and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slipper’d pantaloon
With spectacles on nose well and pouch on side,
His youthful hose well sav’d a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends his strange eventful history,
In second childishness and mere oblivion
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
http://en.wikipedia.org/wiki/All_the_world%27s_a_stage
В переводе Т. Щепкиной-Куперник этот монолог звучит следующим образом:
Но Шекспир часто всего лишь резонатор своей эпохи, ее эхо, до нас долетевшее. Он усиливает, модулирует чужие голоса. Например, королевы Елизаветы, выступающей перед Парламентом и произносящей следующее: “Мы, властители, выходим на подмостки этого мира, чтобы сыграть нашу роль на глазах всего человечества...”
Идею мира-театра обыгрывает в стихах УолтерРэли:
(“What’s our life. ” Перевод А. Нестерова)
А есть еще и стихотворение сэра Генри Уоттона (1568-1639), приятеля Джона Донна:

Man’s life a tragedy: his mother’s womb
(From which he enters) is the trining room;
This spacious earth the theatre; and the stage
This country which he lives in; passion, rage,
Folly and vice are actors: the first cry
The prologue to th’ ensuing tragedy.
The former act consistent of dumb shows;
The second, he to more perfection grows;
I’th third he is a man, and doth begin
To nature vice and act the deeds of sin:
I’th fourth declines; I’th fifth diseases clog
And trouble him; then death’s his epilogue.
Актер в маске бога не успевал возгордиться. Он был и богом, и марионеткой бога.
Платон видит в людях «чудесные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью» (Законы I, 644d). «Миф о том, что мы куклы богов способствовал бы сохранению добродетели» (I, 645b). Игру с куклами ведет само божество, всегда разумное и совершенное. У Плотина вселенная непрестанно создает людей, «прекрасные и милые видом живые игрушки» (III, 2,15,30-33 Harder). Слезы и заботы их, пусть даже самые глубокие, с точки зрения вечности, только пустая забава. Люди «принимают свои игрушки за нечто важное, так как им неведомо, что действительно важно, и потому, что сами они игрушки»(III,2,15,50-56)
Идея константа «Весь мир — театр» впервые обнаруживается в Греции у Пифагора (втор. пол. VI в. до н. э.), в приписываемом ему афоризме: «Зрелище мира похоже на зрелище Олимпийских игр: одни приходят туда поторговать, другие — проявить себя, третьи — посмотреть на все это».
В приведенной форме афоризм сформулирован блестяще: в нем отчетливо проявляются три «актанта»—
1) действующие творцы, олимпийцы;
2) снующие в толпе там и сям торговцы;
3) наблюдатели всего этого со стороны, зрители (а возможно, среди последних и наблюдатель-философ); и все это окутывает атмосфера зрелища спектакля.

2) « El gran mercado del mundo » — букв. «Великая ярмарка мира », «Весь мир — ярмарка », «Ярмарка Мира ». И, поскольку они противопоставлены, то, таким образом, отводится отчетливо выделенное третье место наблюдателю того и другого со стороны — философу.
… У Сенеки: «Некоторые принимают только ту часть философии, что дает особые наставления человеку в каждой роли и, не стремясь придать стройность всему в его жизни, советуют мужу, как вести себя с женою, отцу — как воспитывать детей, хозяину — как управлять рабами; прочие же части философии они оставляют как витающие за пределами нашей пользы, — как будто можно дать совет касательно части, не постигнув прежде всей жизни в целом.»
Эпиктет: «Помни: ты — актер в спектакле и должен играть роль, назначенную тебе распорядителем, будь эта роль велика или мала. Если он назначил тебе роль нищего, постарайся и ее сыграть как следует, да и любую другую роль: калеки, государя или обыкновенного гражданина. Твое дело — хорошо исполнить свою роль; выбор роли — дело другого».
Стихотворение Николая Гумилева «Театр»:
Все мы, святые и воры,
Из алтаря и острога,
Все мы — смешные актеры
В театре Господа Бога.
Бог восседает на троне,
Смотрит смеясь на подмостки,
Звезды на пышном хитоне —
Позолоченные блестки.
Так хорошо и привольно
В ложе предвечного света.
Дева Мария довольна,
Смотрит, склоняясь, в либретто:
«Гамлет? Он должен быть бледным.
Каин? Он должен быть грубым. »
Зрители внемлют победным
Солнечным, ангельским трубам.
Бог, наклонясь, наблюдает,
К пьесе он полон участья.
Жаль, если Каин рыдает,
Гамлет изведает счастье!
Так не должно быть по плану!
Чтобы блюсти упущенья,
Боли, глухому титану,
Вверил он ход представленья.
Боль вознеслася горою,
Хитрой раскинулась сетью,
Всех, утомленных игрою,
Хлещет кровавою плетью.
Гумилев отказывается видеть в людях простых исполнителей «сценария», так понятый им миропорядок он совершенно не принимает. Отношения поэта к христианству было в значительной степени противоречивым: от таких стихотворений как «Пять коней подарил мне мой друг Люцифер» в юности до истового православия в годы гонений на церковь. Пафос этого стихотворения явно антирелигиозен, так как поэт видит в отношении Бога и мира, Бога и человека только отрицание его свободы. Гумилев считает принцип театра в мире нравственно несостоятельным, так как он оправдывает страдания людей. Таким образом, отношение Гумилева к проблеме можно противопоставить отношению Кальдерона, для которого неуклонное исполнение роли в «театре Господа Бога» было, напротив, нравственно обусловлено.
Другой пример — несомненно, более известное стихотворение «Гамлет» Бориса Пастернака из «Стихотворений Юрия Живаго». Оно, как по смыслу, так и по композиции, противоположно вышеприведенному стихотворению Гумилева. Если в последнем автор как бы внеположен картине мира, то у Пастернака текст написан от первого лица, и центр композиции — сцена, автор — на сцене:
Гул затих. Я вышел на подмостки
Прислонясь к дверному косяку.
У Гумилева Господь Бог непосредственно является зрителем, у Пастернака Он присутствует лишь незримо, а зрители иные:
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Но главное различие стихотворений в их идее. Герой Пастернака смиряется, хотя в нем и происходит борьба. Он как бы повторяет Христа в Гефсиманском саду, из соответствующего места Евангелия заимствованы слова: «Если только можно, Авва Отче, // Чашу эту мимо пронеси». Если общая оценка мира как мира детерминизма у обоих поэтов близка —
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
— то вывод из этого различен. Пастернак принимает это с христианским смирением. Как бы за кадром остаются выражающие его заключительные слова «моления о чаше» Христа («впрочем не Моя воля, но Твоя да будет», — Лука, 22, 42), но общий смысл стихотворения именно в них.
Юлий Ким «Театральный пролог»
Мадам, месье, сеньоры,
К чему играть спектакли,
Когда весь мир театр,
и все мы в нем актеры,
Не так ли, не так ли?
О как бы нам, сеньоры,
Сыграть не фарс, а сказку,
О счастье и надеждах сыграть, пока не скоро
Развязка, развязка.
О мир, где вместо падуг
Над нами арки радуг,
Где блещет вместо ламп Луна,
Где мы, мы играем слабо,
О, как бы нам хотя бы
Не путать амплуа, амплуа,
амплуа, амплуа, амплуа,
Оп-ля-ля.
Вон вы, чья важность и полнота
Видны издалека,
Идите сюда на роль шута,
Идиота, простака,
А вас, наверно, судьба
Прислала в этот день:
У нас пустует роль столба,
А вы здоровый пень.
Эй-эй, а ваша прыть и стать
И хитрость и отвага
Вполне годятся, чтоб сыграть
Макбета или Яго.
Эй, сеньоры, к нам, эй сеньоры, к нам сюда!
И кто из вас герой, и кто из вас лакей,
И кто из вас герой-лакей укажем без труда,
И только вы, красавицы,
Так прелестны, так уместны в роли нежных дам,
Как вам это нравится?
О, как вам это нравится?
О, как вам это нравится?
Как это нравится вам?
Мадам, месье, сеньоры,
Как это нравится вам?