соня рыкова подруга нины уманской биография
«Мне не советовали копать это дело»

Нина Уманская и В ладимир Шахурин за три дня до смерти (май 1943 года)

Гибель дочери советского дипломата Владимира Уманского — Нины (на фото с отцом) и сына наркома авиационной промышленности — Володи Шахурина послужила толчком к «делу волчат»

Гибель дочери советского дипломата Владимира Уманского — Нины и сына наркома авиационной промышленности — Володи Шахурина послужила толчком к «делу волчат»

Александр Терехов, писатель
Нина Уманская и В ладимир Шахурин за три дня до смерти (май 1943 года)
Гибель дочери советского дипломата Владимира Уманского — Нины (на фото с отцом) и сына наркома авиационной промышленности — Володи Шахурина послужила толчком к «делу волчат»
Гибель дочери советского дипломата Владимира Уманского — Нины и сына наркома авиационной промышленности — Володи Шахурина послужила толчком к «делу волчат»
Новое в блогах
Сериал «Волк» — первая за долгие годы попытка честного высказывания о страшном облике тайной полиции
Путаница, белиберда, неразбериха, мешанина — примерно таков сухой остаток большинства отзывов на сериал Геннадия Островского «Волк». Причем как массового зрителя, так, что удивительно, и критики. Те, кого запутали перебросы во времени, флэшбэки и причудливый монтаж Светланы Маклаковой, ищут спасения от этого бардака в первоисточнике. И тут уже крыша едет окончательно. Потому что роман Александра Терехова «Каменный мост», мало того что огромное и сюжетно невероятно затейливое сочинение, оно еще и не имеет практически ничего общего с сериалом.
Зритель обижается на сценариста и режиссера Островского (сценарии фильмов «Любовник», «Мой сводный брат Франкенштейн» и других) за произвол, за несоответствие характеров, за детективную лихость, за мелодраматическую вялость, за упрощение, за усложнение, плюет слюной и рифмует слово «кино» с другим, в печати не принятым.
Поэтому сразу, чтобы покончить с формальностями, выпьем за родителей и договоримся, что «Каменный мост» — отдельно, а «Волк» — отдельно. Это называется «по мотивам». Мотивами являются убийство дочери советского дипломата Уманского Нины ее одноклассником в 1943-м году и расследование этого убийства спустя 80 лет неким маргиналом с мутным прошлым. Ну и ряд ярких деталей, которыми роман Терехова богат отменно.
Искать на этом основании ответственности сериала за роман, и наоборот — так же правомочно, как сравнивать меня с детьми красной элиты начала 40-х на том основании, что мы заканчивали одну 175-ю школу.
Если уж что-то с чем-то сравнивать, то «Волк» вышел почти одновременно с другим сериалом, построенным как бы по тому же принципу: майор КГБ в наши дни расследует загадочные события полувековой давности. В «Перевале Дятлова», как и в «Волке», зрителя перебрасывают в разные временные плоскости, там и там офицеры КГБ/ФСБ (в «Волке» — бывший, это важно) ищут правду, покрытую мраком времени. Но почувствуйте разницу.
«Перевал Дятлова» — стильно, изобретательно придуманная сказка о мужестве, о противостоянии человека и природы, об организующей роли спецслужб.
По-моему, все уступки такого сериала зрительским пристрастиям НТВ, по заказу которого он снят (но где, что характерно, так и не показан), — можно простить. Уступки эти, конечно, есть.
Прежде всего — фигура главного героя. Денис Шведов, интересный мужчина, правофланговый российского сериала (на разных каналах одновременно прошли аж три сериала с его участием), да и актер, борозды не портящий. Но конкретно в «Волке» выбор Шведова на заглавную роль мне видится ловким режиссерским маневром, дымовой завесой. Как бы это привычный детективный триллер с невозмутимым (и бессмертным) супергероем, способным, истекая кровью, мчаться за джипом, прыгать ему на капот и, получая очередную пулю, закалывать водителя. В таком примерно роде. Волк в исполнении Шведова, безусловно, чистая функция. И то, что сериал назван «Волк», конечно, уловка. Потому что этот Волк с его каменным лицом (принципиально сонный Цыганов рядом с ним — Луи де Фюнес) играет в сериале роль исключительно служебную. Как, строго говоря, и вся современная линия расследования. И Волк, и его помощники (хорошие, кстати, молодые ребята плюс бедовый симпатяга-мажор — особенно жалко, когда таких убивают — выразительный Антон Васильев в роли боевого друга Бори), и женщины разной степени сексуальности, и гэбэшная свора, и много кто еще — нужны здесь, как нужна дому лестница. Или, в нашем случае — как мосту — быки, опоры. Без них — нельзя, но главный смысл сооружения все-таки не в них.
Критик Анна Кагарлицкая сделала замечательное наблюдение:
актеры в исторической части фильма играют, как в кино. А в современной — как в сериале. Это очень точно.
И эта разница существенна.
В сериале играют быстро, сроки поджимают, маячат следующие сезоны, там доскажем, дотянем, если что. «А не нравится — звоните Ди Каприо».
Играют, как в кино — значит всерьез. Играют правду, недаром это слово так часто звучит с экрана. Играют большую «взрослую» игру: после смерти в этой игре не воскресают, никаких вторых сезонов там не бывает. В этой игре надо высказаться до конца, до самого конца, что и делают актеры, особенно двое: грандиозный Маковецкий (Уманский) и — неожиданно — Артур Смольянинов (Безрук).
Кадр из сериала «Волк»
Фильм вовсе не о противостоянии Волка сотоварищи (правды) и исторической лжи, что было бы, может, и неплохо, но поверхностно. Нет. Это о противостоянии жертв. Главных героев двое, и оба — разящие. Уманский и Безрук/Долгов. Их игра на выживание, их страсти — вот что в этом кино самое замечательное, самое современное, и о чем вообще имеет смысл говорить.
Константин Уманский — дипломат, советский аристократ, интеллигент, верный слуга «императора» на международной ниве, надежный проводник революционной экспансии. Элита, белая кость государства, и у него столько всего есть, что терять! Поэтому понятия «страх» и «совесть» для него давно слились в общее – «служба». Которая, в общем, равноценна жизни. Поэтому запродавшийся со всеми потрохами он, в отличие от своего друга, коллеги и соперника опального Литвинова (А Клюквин), не способен понять своей обреченности. Он верит, боится и просит.
Николай Безрук. Тот, про которого непонятно, была ли у него мать. Чудом выживший на фронте солдат, с легкостью плевка убивающий своего за ложку каши. Впрочем, своих у него нет. В НКВД попадает в бригаду тайных убийц, да и тех удивляет окаменелостью. Никаких чувств, кроме голода. Даже бабы его не заводят. Выжженный изнутри обломок человека. Терять нечего, смерти не боится. Идеальный исполнитель. Единственный принцип наколот на руке: «живи, как собака, умри в могиле». Хоть забей молотком и саперной лопаткой — но предай земле. Сам Берия (обольстительный дракон Саид Багов) его ценит и прощает этот грех «милосердия». С землей у «товарища Долгова» (кличка Безрука) отношения особые. Его едва не похоронили заживо. После чего он и пошел служить аду, постепенно становясь исчадием.
Мы давно поняли, что «сила, брат», совсем не в правде. Безрук понял это гораздо раньше. Почему он сильнее Уманского, сильнее всех, кто его окружает в его гэбэшном аду? Сильнее даже тех, кто говорит ему: «Вот в этом углу стоял маршал Блюхер — целый маршал! — и держал в руке свой глаз. Ты же не хочешь так, Долгов?» Его сила в том, что он — никто. Как был никем Сталин. Как был никем Гитлер. И ряд других персон. В той системе координат, где разворачивались эти и похожие истории, только Никто мог стать Всем. (Такое превращение, к слову, совершенно магически играет здесь Малхаз Абуладзе — Сталин, корявый всемогущий карлик с прожигающими насквозь глазами маньяка.)
Кадр из сериала «Волк»
Подростки, попавшие в капкан на Каменном мосту, в отчаянии совершают самоубийство (Володя стреляет в Нину, потом в себя). Вот тут, собственно, и начинается чудовищная история и карьера Безрука, в котором воплотилась вся сатанинская хтонь тайной полиции.
Соня Рыкова (Алевтина Тукан), верноподданная комсомолка и подруга Нины Уманской (сложные тройственные отношения Сони, Нины и Володи), из лучших побуждений бежит к товарищу Долгову искать помощи, «спасать» друзей и любимого товарища Сталина. С этого момента все они оказываются повязаны в гордиев узел, влюбленные погибают, а Соня, став любовницей Безрука, сходит с и без того ущербного ума, вообразив себя Ниной.
Девушки похожи. И в преисподней рождается дьявольский план. Уманский не успел увидеть мертвой дочери, ее кремировали немедленно. Безрук конфиденциально сообщает ему, что Нина жива, вместо нее убили другую девушку, и он, Уманский, должен вылететь по месту своего назначения, Нина приедет к нему позже. Вновь обретя оплаканную дочь, тот вылетает послом в Мексику. А из Москвы ему идут и идут письма Нины, написанные безумной Соней, а также пленки. Безрук без конца снимает Соню на камеру, качество съемки неважное, и отец ночи напролет, весь в счастливых слезах, сидит в посольстве и крутит проектор.
То, как эти «встречи с надеждой» играет Маковецкий, должно войти в историю кино примером великого трагического переживания.
Уманский должен переправить немереные миллионы в Коста-Рику — на нужды революции «в подбрюшье Америки». Самолет с мешками денег взрывается, не взлетев, Безрук, прибывший в Мексику со спецзаданием, пристреливает еще живого Уманского (а до этого — всю чекистскую команду, орудующую тут).
В Москве он передает Берии реквизиты счета в швейцарском банке.
История гибели Нины Уманской заканчивается.
Но почему сегодня убит Леонид Гольцман? Почему убиты еще многие, кто сунулся, как сказано в романе Терехова, «распечатывать Каменный мост»?
Потому что жив главный демон-исполнитель, он же пружина этого дела. Жив Безрук. Жив не метафорически, а реально. Глубокий старик, построивший на золоте КГБ свою империю. Баснословно богатый мафиози в чине не помню, каком, генерала.
И вот его вполне бодрая живость, вот она — совершенно понятная метафора.
Кадр из сериала «Волк»
Это третья по силе роль фильма — Виктор Проскурин. Его последняя роль. «Что вы знаете о смерти? — говорит его герой. — А вы? — А я знаю…» В этот время Проскурин действительно уже знал о ней кое-что. И вскоре узнал всё.
Старый Долгов — и есть тот мост в историю, на котором разворачивается трагедия. Виктор Проскурин «играет, как в кино», играет последние минуты — как последние минуты.
В эти последние минуты старый паук, замерев в центре своей паутины, смотрит кино. Старую лживую съемку, которая обеспечила ему столь долгую счастливую жизнь на крови, — она наливается цветом, девочки танцуют, кто из них Соня, кто Нина, уже не разобрать. Кино становится сериалом, и можно надеяться на воскрешение.
На этом можно было бы и закончить.
Но хочу добавить еще пару слов.
Это написано в дни, когда вышла предвыборная программа партии «За правду» сталинского сокола Захара Прилепина, когда Навального и его встречающих винтят в аэропорту, когда в стране тюрьмы забиты политзаключенными, а Сталин со дня на день будет назван спасителем России.
Один из трех больших разделов недавно вышедшего номера 7/8 посвящен недавним режиссерским дебютам из России. Среди них — сериал «Волк», поставленный опытным кинодраматургом Геннадием Островским. О сериале для журнала написала Елена Стишова.
14 серий «Волка» я смотрела взахлеб, оставив попытки дистанцироваться от экрана и — по привычке — рефлексировать увиденное на ходу.
Погружение было полным, никакого зазора между субъектом и объектом. Второй просмотр, теперь уже намеренно отстраненный, — и тот же эффект.
Так понимаешь, откуда что растет.
Мне стукнуло семь лет, стояло лето 1943-го, и я услышала, как мама громким шепотом рассказывает старшей сестре про таинственное убийство дочери посла Нины Уманской на Каменном мосту. Картинка, возникшая на сетчатке глаза, сильно затуманилась с тех пор, но все же сохранилась — примерно в таком качестве, как кинокадры мокьюментари в сериале, запечатлевшие Нину на роликовых коньках. На моей картинке мост дощатый, хлипкий, падающая девичья фигура расплывается пятном возле перил. Все понятно: мы недавно вернулись из эвакуации, из татарской деревни, я на своем веку еще не видела ни Большого Каменного моста, ни Дома правительства. Но отчего образовался такой силы триггер, активный и семь десятилетий спустя? В семь лет я кое-что узнала про войну, но понятия не имела про Эрос и Танатос, эту неразлучную парочку. Я еще, как сказал бы Бахтин, «не совпадала со своей наличностью». А в наличности была матрица бессознательного и был паттерн, без спросу толкнувший меня в сторону трагического, запретного, инфернального. Вытеснить аффект, случившийся в момент услышанного, не получилось на протяжении долгих десятилетий. Пока я не увидела сериал Геннадия Островского. Это чудо, но режиссер работает в тональности, окликающей экзальтированную детскую чувственность, уязвленную леденящей душу историей.
Мой coming out объясняет мое пристрастное отношение к сериалу и мое право на личную оптику. Сквозь ее магический кристалл я вижу работу выдающуюся, едва ли не самую значительную в кино последнего года. Не очередной «сериальный продукт», а сложносочиненное произведение высокого разбора. «Нацбест» 2009 года Александра Терехова «Каменный мост», «по мотивам» которого написан сценарий и снят сериал, в лице Геннадия Островского, режиссера и автора экранизации, нашел идеального читателя и адекватного интерпретатора. Даже литературные критики всплеснули руками, не обнаружив существенных изъянов в кинематографической транскрипции романа. Это и впрямь удивительно, однако сравнительный анализ романа и сериала — тема для отдельного лонгрида. Замечу лишь, что архисложный нарратив модернистского романа, противящийся выпрямлению и упрощению, не влезающий в прокрустово ложе линейного повествования, ставил перед автором сериала головоломные задачи. Он решил их преимущественно в монтаже, и сценарий писался с заранее рассчитанным прицелом. Причудливая, если не сказать произвольная, монтажная складка материала, флешбэки разной длины, интроспекции, ассоциативный монтаж, мгновенный переброс действия во времени — подобные вольности и воспроизводят структуру романа с его замысловатой темпоральностью.
Что не получилось: рассказ от первого лица, исповедальность. Брутальный Денис Шведов в роли экс-разведчика Александра Волка, из чувства долга взявшего на себя расследование убийства друга детства Лёни Гольцмана (завязка, нужная лишь для того, чтобы выпустить джинна из бутылки!), не стал alter ego автора, да и актеру не ставилась такая задача. В романе расследование ведет журналист, в сериале — отставной полковник ГРУ, профи, в свое время выполнявший секретные задания Центра, не понаслышке знающий, что такое резня. Зато стремительно набирающий популярность Антон Васильев, сыгравший Бориса Миргородского, армейского кореша Волка и соратника по расследованию, не дает сюжету скатиться в откровенный функционал навигатора по сериалу, действие которого развивается в нескольких временны́х пластах — от условно нынешнего дня и ретроспективно до 40-х годов прошлого века.
Статус личного авторского месседжа режиссер оставляет за собой. Поток авторского сознания веет над изображением, преобразуя такой технологичный жанр, как триллер, в целостное высказывание. Я бы даже сказала жестче: идеологическое высказывание.
Тот самый джинн ворвется в сюжет без вводных слов. Как снег на голову. Как антропоморфная протоплазма, извергнутая из хтонических глубин.
Единственный флешбэк на полях войны: советский солдат, оказавшись в окопе только что отступившего противника, застрелит немецкого поваренка, отнимет у мертвого термос с едой и станет целеустремленно пожирать какое-то варево. Невесть откуда взявшегося офицера с угрозами и призывами к воинской дисциплине он вырубит выстрелом в живот. Чтобы не лез под руку.
Нагрянут особисты, трибунал, приговор и свежевыкопанная яма: его хотят закопать живьем. (Уж не вернуть ли земле ею порожденного монстра? — неявных хтонических аллюзий в сериале достаточно.) В обмен на сохранение жизни солдат соглашается служить под началом своих палачей. Зовут его Безрук. Документы он получит на имя Долгова. К нему — ключевому фигуранту сериала — стекутся, впадая одна в другую, все сюжетные линии.
Безрук-Долгов — антагонист автора. Этот персонаж подвергнут пристальной реконструкции, режиссерской и актерской. В его роли снялся Артур Смольянинов, и это выдающаяся актерская работа. Вот где пришлась кстати сложная фактура актера, затруднявшая его путь и наконец ставшая подспорьем в роли, мало сказать, «типичного представителя» тайной полиции времен Берии. Безрук —
архетип. Выживший в Голодоморе детдомовский волчонок, безотцовщина, управляемый лишь базовыми инстинктами, благодаря стечению обстоятельств и хорошо усвоенным урокам станет палачом, кому пофартит прибрать к рукам «золото партии». (Помнится, в перестройку был долгий звон на эту тему и рассосался без следа.)
На Безрука завязан главный драматургический узел фильма. Именно его с перерывом в два года дважды назначают убийцей Константина Уманского (Сергей Маковецкий) — одного из основных персонажей сериала. Дипломат в ранге посла — в США, позже в Мексике — под колпаком спецслужб. Первое задание о его ликвидации отменят на ближних подступах к цели. Безрук не внакладе: он унесет из гостиничного номера экзотическую бутылку спиртного и приглянувшийся ему фотопортрет очаровательной девочки. Девочка окажется дочерью посла.
Роль Нины Уманской в исполнении Варвары Феофановой, выпускницы мастерской Владимира Рыжакова в Школе-студии МХАТ, — актерское событие. (Актриса сыграет также и реинкарнацию Нины — обдолбанную певичку Стар из подпольного клуба.)
Нина — сердце всей многовекторной истории, ее сквозная боль, персонификация обреченности инаковых, кто не поддался советской пропаганде, оказавшись по каким-то причинам вне ее.
В густонаселенном сериале нет бесспорного протагониста. Уж точно не Волк. Он «командир», в лучшем случае Вергилий, проводник в царстве мертвых, эксперт по кругам ада, прикрытого логотипом акционерного общества «Тепловые машины», аффилированного с силовыми структурами.
К тому же не волк он по сути своей. Волк, волчара носит другую фамилию: Безрук, псевдоним — Долгов. Смысл проекции, видимо, в том, что Волк и Безрук — коллеги, оба засветились в спецслужбах.
И все же Нина Уманская — она и есть протагонист автора без его ведома и согласия. Идеальный, идеализированный, несколько литературный. Но можно ли в российском кино обойтись volens nolens без русской классики? Вопрос риторический. Нина, сыгранная Феофановой, кольнет своей типажной схожестью с бунинской гимназисткой из «Легкого дыхания».
Оба прочтения релевантны. Обе модальности пересекаются на протяжении всего сериала: нейтрально изъявительная, фиксирующая реальности «здесь и сейчас», и тревожно вопрошающая, обращенная в мрачную бездну прошлого. В самый раз процитировать реплику одного из персонажей сериала, историка московских кладбищ Кипниса (коронная роль Александра Семчева!): «Смотрящие за прошлым зорко следят за будущим».
Исторический дискурс коренится в авторской установке. Снимая жанр, Геннадий Островский держит в фокусе свое личное отношение к сталинской диктатуре, к чекистам, к практике террора, массового и индивидуального.
Вымысел опирается на скупую фактологию. Строго говоря, на все 14 серий только два (!) эпизода имеют документальную проекцию: гибель Нины и Володи и гибель посла Уманского в авиакатастрофе.
Трагическая история отроческой любви. Драма безутешного отца. Авторские версии кошмара среди бела дня 3 июня 1943 года, причинно-следственные связи составили толстенный роман, экранизированный ангажированным постановщиком. Геннадий Островский, яркий кинодраматург «Русский регтайм», «Бедные родственники», «Механическая сюита», «Любовник», «Мой сводный брат Франкенштейн», «В движении» — избранные сценарии Геннадия Островского. Сергей Урсуляк приступил к съемкам фильма «Праведник» по сценарию Геннадия Островского. с опытом театрального режиссера, придумал для сериала новые сюжетные линии, мистическую в том числе.
При повторном просмотре меня осенило, будто в сериале есть мысленное зеркало, двояковыпуклое. В него смотрятся прошлое и настоящее, реальное и ирреальное, смешиваясь в единый поток. И хотя материальный мир «Волка», все фактуры скрупулезно реалистичны, неявная фантомная подсветка напрягает повествование, по-русски говоря, до белого каления.
Уманский балансирует на проволоке, понимая, что может сорваться в любую минуту. Он делает все возможное, чтобы оставаться незаменимым на своем посту. Ведет торги с мексиканскими властями, чтобы вытащить из тюрьмы Меркадера, убийцу Троцкого, обменять его на поставки нефти; пытается советизировать Мексику и — боже мой! — верит в эту утопию.
Тем временем в Кремле затевается новая игра.
Передел Европы грядет, это ясно уже летом 43-го, в ходе Курской битвы и в предчувствии триумфальной победы. Закон паритета диктует оставить Мексику акулам империализма, и никто не помешает Советам вводить свой порядок в Восточной Европе. Но пока Уманский персона грата в Латинской Америке, в самый раз использовать его втемную. Берия замышляет рискованную авантюру. В партнеры пригласит только одного человека — Безрука.
Второй после гибели Нины ударный эпизод сериала, эпизод страшной гибели ее родителей, случится после того, как Уманский в результате долгих манипуляций поверит, что его дочь жива. Безрук использует внешнее сходство Нины и Сони, ставшей после ее гибели пленницей и наложницей своего спасителя. Американским киноаппаратом — трофей после очередного убийства — он снимает ролики, где Соня, одетая в Нинины вещи, изображает Нину. Соня пишет письма «папе», она давно научилась имитировать почерк подруги. Письма и ролики пересылаются Уманскому, по ночам в кинозале посольства безутешный отец их смотрит и верит.
Соня рыкова подруга нины уманской биография
Пока я писал эти тезисы-заметки во время просмотра первых нескольких частей сериала «Волк», мне казалось, что удастся избежать обращения к личному, надписанному автором, томику «Каменного моста» — полагался на память. Но к середине фильма все-таки открыл для каких-то уточнений — и вновь буду перечитывать, уже раз в 15-й: книга, важная для меня. При каждом перечитывании вырывающая из меня кусок жизни — прямо-таки повторяющийся опыт умирания. Сколько помню, меня всегда обостренно беспокоили темы смертности, упускания, несвершения и связанное с этим течение времени — вперед, назад, медленно, быстро. Этого много у Набокова — в «Подвиге», «Подлинной жизни Себастьяна Найта», рассказах. Что-то связанное именно с Набоковым я искал в кипе журналов, взятой в университетской библиотеке в конце 90-х, — и вдруг наткнулся на некий текст, озаглавленный «Бабаев». Это было первое знакомство с прозой Александра Терехова, и «кольнула» она большим сходством мироощущения, чувствования времени. У Терехова совершенно особый авторский стиль — его узнаешь по тому, как легко он сталкивает прошлое и настоящее друг с другом, то в лиричной, то в беспощадно циничной манере. Прошло десять лет, и еще до выхода мне достался объемный текст в ворде — и все последующие годы этот текст мне кажется одним из важнейших в новой русской литературе.
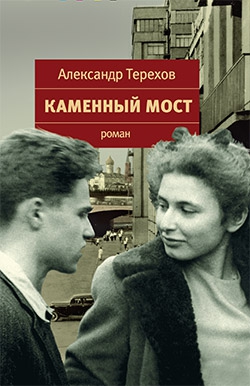
Название сериала — явная уступка формату. Ясно, что волк — и про суть, и про фамилию героя. Есть и неявная перекличка с реальной репликой Сталина о детском деле — «Волчата!». Однако, несмотря на приоритет рассказчика и расследователя, герой все-таки не абсолютный центр книги «Каменный мост». Нельзя этого сказать и о фильме. Волк выписан «командиром», катализатором, ведущим, но необходимого напряжения и тугого взаимодействия между Историей в целом, «делом волчат», Каменным мостом в частности и героем — в фильме не видно. Хмурится он замечательно, но книжной глубины показать не может. Несколько сотен страниц важнейших, концентрированных размышлений о сталинской эпохе, сказанных в книге от лица главного героя, именно за ролью Волка — и в игре Дениса Шведова — не считываются. Поэтому название мне видится данью практике нейминга отечественных сериалов на серьезную тематику — должно звучать коротко, тупо и грозно.
Рядом с главой расследования — Миргородский, младший соратник Волка. Один из тех героев, кто максимально похож на свой оригинал из «Каменного моста». В отзывах на разных ресурсах я встречал суждения о том, что актер Антон Васильев не подходит фильму, но мне показались совершенно оправданными не только этот выбор, но и его актерское решение роли. Волку был необходим противовес, его помощник Миргородский успешно это отыгрывает: человек, любящий жизнь и отличный исполнитель притом — он занимается «земными» делами, в отличие от командира, блуждающего во времени и борющегося с химерами собственного сознания. Миргородский рассудителен и речист, а Васильев к тому же выгодно отличается от целого ряда других актеров (роли Алены, Вано, Чуева — навскидку), которые текст роли «проговаривают». Васильев же — этот текст играет, он органичен в нем.
Фигура старика Гольцмана в тексте не слишком выпуклая, но она мреет, просвечивает на протяжении всей книги, будучи чем-то вроде персонифицированной связи рассказчика с «тем» временем; Гольцман — это проводник, перевозчик через Стикс. В «Волке» же и он, и его сын понадобились лишь для завязки всей истории и сразу исчезли — подчинились сценаристу-демиургу.
Есть особо тронувшие повороты, которых нет в книге, либо они не подробно описаны — навроде наглядной откровенности во взаимоотношениях Нины и Володи или эпизода с обнаружением Ниной двух малышей по фамилии Сванидзе (эту фамилию носила первая жена Сталина), спрятавшихся в большой квартире после увода их мамы «в милицию».
Очень красивая сцена, когда девочки-подружки Нина и Соня в обостренных, у каждой — своих, чувствах, ложась спать, поют песню на испанском. Перед поездкой на дачу они «играли» в сестер, надевая идентичные наряды и шляпки — да так, что мать Нины (актриса Марина Зудина, небольшая, но запоминающаяся трагическая роль) не может их отличить. Именно тут, кстати, у меня зародилось глухое угрожающее чувство неслучайности этого сходства — того, на котором так крепко завязан сюжет. Тема «зеркальности» двух героинь путает, чарует, обволакивает сквозь время многих ключевых персонажей: зловещего Безрука, Волка, Уманского-старшего.
Безрук-Долгов — та фигура, которая цементирует сценарий, позволяет сюжету сработать на короткой дистанции; динамичность, подвижность, непредсказуемость роли зловеще довлеет, пульсирует на протяжении всего фильма и помогает рассказать историю короче, чем в книге. Его не было — но его стоило придумать: сценарист сжимает часть рефлексии «Каменного моста» в мощную пружину и помещает ее в изобретенного антагониста. Но антагонист в фильме все же коллективный, эта собирательность не отличается от книжки; однако уточнять не решусь — Терехов потратил на это 10 лет, пока писал текст, но не объяснил до конца.
Соня — еще один важный узел всей истории, во всяком случае, ее нервный центр. По ходу действия из, казалось бы, проходного персонажа она исподволь вырастает в важнейшую фигуру, на которую замкнут сюжет. Один из смысловых центров фильма — зеркальная тема, тема двойничества Нины и Сони. Протянутая в будущее, эта тема завораживает и зрителя, и «добытчика правды» Волка.
Замечательный Сергей Маковецкий, отличный выбор актера — сцены, где он есть в кадре, пронзительны и точны. Удививший, почти гениальный Игорь Ясулович в маленькой роли древнего старика Дашкевича. Удивил и Александр Семчев, потрясающе сыграв смертельно больного историка Кипниса — «могильного червя», назубок знающего всех постояльцев кладбища, где захоронены Нина и Володя. Отличный Литвинов. Великолепная Тася. Неинтересный Шахурин-младший, похожий на молодого Маяковского, непроработанный, пустоватый образ. Впрочем, пустота героя в фильме некоторым образом смыкается с его книжным аналогом — экзальтированный избалованный сынок высшей элиты (дипломат Уманский в советском табели о рангах стоит намного ниже наркома Шахурина).
Алене (Линда Лапиньш) не веришь, артистка отрабатывает сценарные ремарки буднично, без надрыва в экзальтированных сценах — точнее, надрыв этот кукольный, неестественный. Кстати, женщины Волка. Эту мощнейшую и важнейшую в книге тему фильм нивелирует до (лишь) Алены, плюс минимальный намек на Машу в самом конце последней серии. Думаю, такой сценарный ход продиктован объемом этой темы: и без нее сериал имеет 14 частей, и прилепить это мясо (хотя бы вполовину, как в книге) на тот скелет, что получался, — сложнейшая задача. На мой взгляд, еще и поэтому образ Волка остается загадкой — но достаточной бледной, чтобы взяться ее разгадывать.
Сценарист намеренно и милосердно «упускает» и тему игры, в которую играют дети вождей в книге, Шахурин-младший там — заводила. В 2020 году рассказать в сериале, что дети руководителей государства в разгар лютой войны играли в «Четвертый рейх» — задача, несовместимая с выходом на экран, тем более телевизионный. Но для того же 2020 года заслугой выглядит показать спецбригаду убийц из НКВД во всей их тошнотворной «красе»: есть сцены и палаческой работы — страшные; и эпизоды их так называемой жизни — страшные не меньше из-за будничности, «обыденности зла»: показывают их жен, детей, застолья, разговоры. И реплика (сценарно довольно топорная) супруги одного из них: «А мой — всех детей любит, такой он добрый, такой хороший». Кстати, я почему-то с удовлетворением воспринял визуальное сходство одного из убийц с Михаилом Пореченковым — вспомнился «Академик» из сериала «Ликвидация».
Дальше — еще смелее: случайно увидев сцену расстрела «врагов народа», Нина в ужасе шепчет: «фашисты». Собирание образа советского палача завершается на звенящей острой ноте смешения их с гитлеровцами — теми, кто уже терзает родную землю. В этом — один из успехов сериала и одна из тех «правд», которые пытается не признавать сегодняшняя официальная патриотическая историография: Родину терзали и захватчики, и свои. Жестко «триггернул» старик Долгов-Безрук в последних сериях — преуспевающий, герой войны, любимый внуком дедушка («Я тебя очень люблю, потому что ты хороший и потому что ты герой», — говорит ребенок члену спецбригады убийц). Долгов добр и безобиден, вид старичка — совершенно уже не зловещий. Так, кстати, выглядел и генерал армии Филипп Бобков (глава кагэбэшного направления, прессовавшего инакомыслие) в старости: «этого не помню, того не было; да я дружил, а не преследовал». Так, вероятно, выглядели бы и Эйтингер с Васильевским — «ангелы смерти», кадровые убийцы — если б дожили до 80–90 лет.
Это одна из добытых «Каменным мостом» и «Волком» правд — прошлое не просто рядом, оно не прекращало прорастать сквозь нас, оттягивая назад. Как не прекратилась связь тех и нынешних «традиций» отечественной жизни. Когда ритуалы и декларируемые ценности сегодняшнего российского государства завязаны на прошлое, а не на будущее, «мертвые становятся чуть ли не основным политическим козырем и ресурсом» (©Максим Евстропов, художник-акционист). От лица мертвых говорят политики, церковники, среди мертвых блуждают «люди правды». Книга и сериал сообщают нам, кроме прочего, и это, художественно осмысляя роль ушедших людей в нашем настоящем и их довлеющую силу, показывая соединенность двух государств — сталинского и путинского.
Сильный образ, разделяющий сцены из прошлого и текущее время, на самом деле связывает их в своей символике: высотная съемка современной Москвы с комплексом небоскребов справа и чадящими трубами слева (привет индустриализации и труду ГУЛАГа), над всем этим — венец пятиконечной звезды в обрамлении железных колосьев. Связаны и временные пласты: подъезды, мост, дверца в мосту, лестничные пролеты, квартиры тогда/сейчас монтируются рядом, просвечивают друг сквозь друга. Волк, единственный, кто чует связь знаковых мест, — бродит по ним сомнамбулой, влекомый неясным ветерком из прошлого, подобно Хью Персону из «Transparent things» Владимира Набокова.
Очень хороша вступительная заставка с титрами — набор кадров, настраивающий на непростое повествование. Саунд-дизайн картины отлично продуман с точки зрения «не навреди»: нигде, ни в одном месте сериала он не выступает, лишь оттеняя общую атмосферу. Эмоциональный фон фильма — медленная сладострастная схватка глухих со слепыми под водой, без понимания кто куда движется, неслышная, неявная, пыльная. И безрадостная — какой только и может быть кинематографическая атмосфера такого текста, как «Каменный мост»; тут, возможно, самое точное попадание сериала в книгу.
Однако что важно: повествование приводит рассказчика истории и нас, читателей, к выводу (и поначалу он кажется безысходным): все расследование было зря, и никому не дано вытащить правду из прошлого — даже «людям правды», и зыбкие тени истины, случайно проступив, тают в воздухе и замерзшей воде неузнанными. Но этот вывод дает и надежду — на то, что власть мертвых над сегодняшним днем не тотальна. Пусть мертвые и дальше хоронят своих мертвецов, жить будет свежая кровь, новые люди. Жить, не теряя «радость утреннего сна, просмотра футбола, трудовой усталости тела и оконченной тяжелой работы, радость весны, первого снега, радость невесомости детских рук, утоления жажды холодной водой». Для этого нужно вынырнуть из прошлого, снять этот морок.
«We Are the Night» — финальный трек, завершающий каждую серию, кажется глубоко символичным, донельзя подходящим всему фильму. Подходящим и по настроению жанра (в стиле dark vocal pop + trip-hop&lo-fi), и по едва просматривающейся надежде, что мертвая материя сталинизма прекратит свое воспроизводство: «Мы сотрем ваш мир в пыль, пока он не станет нашим».
