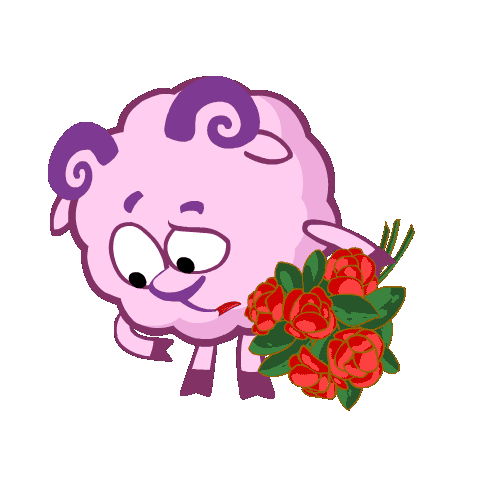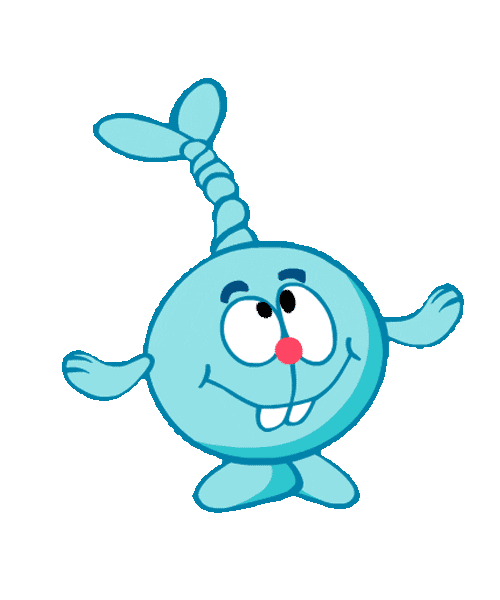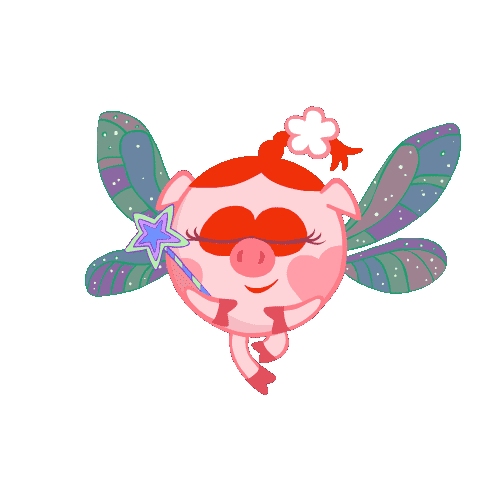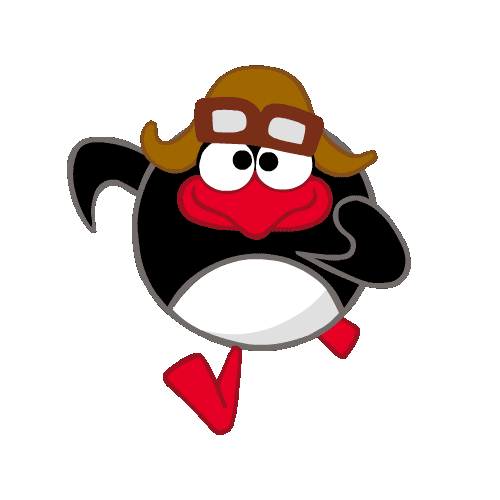смешарики интервью с актерами
Поговорили с худруком «Смешариков» Анатолием Прохоровым — о толерантности, зарубежном успехе и перезапуске мультсериала
«Яндекс» в ноябре прошлого года подписал контракт на перезапуск «Смешариков» — одного из лучших мультсериалов России нулевых годов. Продолжение стартует в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» и доступно в «Яндекс. Эфире» по подписке Яндекс. Плюс, позже его покажут уже и по телевизору. «Смешарики» — во многом очень необычный мультсериал как с точки зрения сюжетов и идей, так и с технической: за внешней простотой рисунка часто скрываются большие философские темы. Истории Кроша, Нюши, Каркарыча и других сказочных обитателей рассказывали не только в формате сериала, но и на больших экранах — у «Смешариков» есть полнометражный приквел и два сиквела.
BURO. поговорило с одним из авторов и художественным руководителем проекта «Смешарики» Анатолием Прохоровым — о том, нужна ли анимации господдержка сегодня, почему мультфильмы должны касаться «запрещенных» тем и чего ждать от нового сезона.
Анатолий Валентинович, анимация — довольно проблемная сфера в аудиовизуальном искусстве. Это один из самых трудных жанров в России — как с точки зрения креативной части, так и в плане окупаемости. «Смешарики» запускались при поддержке Министерства культуры, и это обычная практика для мультфильмов. Поддерживает ли Минкульт вас сейчас или вы стали финансово независимы?
При всем колоссальном количестве нареканий в сторону Минкульта от российской культуры, кинематографа и анимации в частности надо признать главное: он поддерживает много фильмов. Анимация не могла бы выжить ни в 1990-е годы, ни сейчас по одной простой причине: российский медиарынок пока слишком слаб и узок. Но мы в какой-то степени выживаем. Самый успешный российский мультсериал — это «Маша и Медведь». Его мировой успех можно объяснить использованием классического [для мультипликации] жанра мультклоунады, который идет от Флейшера (Макс Флейшер, американский аниматор и создатель Fleischer Studios. — Прим. BURO.) с его моряком Попаем и «Тома и Джерри» студии «Ханна-Барбера». Хорошее качество «Маши и Медведя» обеспечивается в том числе тем, что вся творческая «начинка» сериала делается той частью мультстудии «Пилот», которая уже около 30 лет живет и работает в Лос-Анджелесе.
Но господдержка мультфильмам все равно нужна — прежде всего потому, что ситуация на внутреннем рынке и труда, и производства, и показов для анимации очень сложная. Телевидение до сих пор платит очень немного за мультсериалы и не показывает авторскую короткометражную анимацию. В результате нет заказчиков, нет денег. В таком случае надо включаться в огромную международную медиамолотилку — и мы со «Смешариками» в каком-то смысле это сделали. Нас довольно успешно показывали в Европе и в США. Но настоящий коммерческий успех пришел в Китае — и не к «Смешарикам», а к «Малышарикам», младшему брату нашего проекта. Хотя включаться в равноправный международный копродакшен (совместное производство. — Прим. BURO.) тяжело.
Но есть голливудские мультфильмы, которые собирают гораздо больше, чем российские полнометражные. Почему так в России? Какие вообще есть проблемы в творческой части? Или в административной?
Знаете, это довольно большая загадка для меня как для продюсера. Три полнометражных мультфильма мы делали более-менее по голливудским лекалам. Мы все выверяли, работали с западными скрипт-докторами, консультантами и дистрибьюторами. Но есть что-то такое, что мы не учитываем, а франшиза про богатырей («Три богатыря» — серия мультипликационных фильмов студии «Мельница». — Прим. BURO.) учитывает. Например, жанр. Аудитория во всем мире очень любит легкую семейную комедию: и в игровом, и в анимационном кино. Этот жанр проходит на ура. Мы по разным причинам на нем не специализируемся: все-таки наши фильмы — это «драмеди», драматические комедии. И тут соревноваться с «Диснеем» и «Пиксаром» очень сложно.
В этом смысле наш международный прокат удачнее, насколько я знаю, чем у франшизы про богатырей. Он очень хорошо закупался в Латинской Америке и в Азии. Стоимость на рынке той или иной продукции зависит не только от ее качества, но и от [финансовых возможностей] того рынка, который покупает. Условно говоря, немецкий рынок следит за качеством фильмов, которые показывают зрителям. Латиноамериканский — в меньшей степени, потому что там по телевизору смотрят все. Да, мы ближе к Голливуду в полных метрах, но дотянуться до вершины анимационного Голливуда, до «Пиксара», нам пока не удалось.
Но «Смешарики» ближе к картинам западным, чем к мультфильмы про богатырей. Потому что ваши истории более универсальные, понятные. В них нет какого-то особенного российского колорита.
Он еще больше повзрослел, хотя это не всегда сразу заметно. Наша центральная зрительская ниша — это старшие дошкольники, пять-семь лет, и мы «сидим» в ней очень странным образом. Мы начинали как детский сериал, а потом в творческом и смысловом отношении расширились — и это показалось нам очень интересным ходом. Нас приняли родители. Мы это быстро почувствовали, потому что нас тогда показывали по телевизору, на СТС. Из телерейтингов мы поняли, что нас с большим интересом смотрит родительская аудитория. И мы теперь стараемся сесть не на два стула, а на три или даже четыре: это очень трудно. Для аудитории пяти-семи лет у нас есть приключения, анимация, комический стиль истории. Все это для нас остается главным, чтобы дети не скучали. Но теперь мы должны учитывать огромную аудиторию, от 7 до 70 лет.
В 2009 году вы говорили про своих зрителей так: «Мы поняли, что дети невероятно взрослые, и мы всегда недооценивали их восприятие взрослой жизни, которая течет рядом с ними. Современные дети просто все чувствуют. Ребенок в пять-шесть лет практически погружен во всю психологическую палитру взрослой жизни, семьи, родителей, родственников». Прошло 11 лет. Изменился ли за это время портрет вашего зрителя?
Сейчас, во время перезапуска, родители требуют, чтобы «Смешарики» не снижали «философской» составляющей, оставаясь детским мультсериалом. Это очень интересное и радостное для нас требование, потому что его предъявляют далеко не к каждому произведению. Известно, что «Алиса в Стране чудес» совсем не детская история — но из-за того, что она страшно нравится молодым родителям, они говорят: «Ой, слушайте, как там все замечательно и фантазийно. Дайте-ка я прочту ее своим детям». И когда они начинают читать, им самим это нравится. А читающий с любовью и восторгом родитель он очень сильно воздействует на ребенка. Или, например, «Винни Пух» Алана Милна в оригинале, как вы знаете, тоже не совсем детское произведение. И только благодаря гениальному пересказу Бориса Заходера оно проникло в детскую среду. Нам повезло и с не менее гениальными мультфильмами режиссера Федора Хитрука и двух художников, Эдика Назарова и Володи Зуйкова, которые нарисовали весь этот мир. Вот к этим произведениям приблизительно такие же требования родителей: чтобы они были тонкими, философскими, мудрыми. Но при этом оставались ориентированными на детскую аудиторию. Нас радует, что эти условия стали открыто выставлять нам, хотя это довольно тяжелая творческая задача.
Ваши зрители из 2003 года сейчас уже сами могут быть родителями, которые включат детям новых «Смешариков».
Нам, конечно, очень важно, чтобы, они остались нашими фанатами. Никогда не хочется обижать их, но, как говорится, «делай, что должен и будь, что будет». На перезапуске нам, конечно, важно знать реакцию молодых родителей — примут ли они новый сезон, не отвергнут ли. Вообще, тоска по прошлому — великая и странная вещь. Я вот иногда читаю в Сети, что раньше было лучше и то, и это. И думаю: тут люди адекватные вообще или это у них так ушедшая молодость играет? А то, что в магазинах не было ни хлеба, ни молока, зато были огромные очереди, — на это наплевать? Мы опасаемся такой реакции, в духе «а вот раньше были „Смешарики“. » Но вроде бы этого не произошло.
Не только планируем, они у нас всегда были. Например, наш фильм «Трюфель» рассказывает о выборной компании. «Большое маленькое море» — о надвигающейся экологической катастрофе. У нас есть десятки примеров: одни более яркие, другие — менее. Очень нетривиальный пример — это фильм «Роман в письмах» о взаимоотношениях Александра Сергеевича [Пушкина] и Натальи Николаевны [Гончаровой]. Это очень тонкая и не совсем детская вещь, но нам она важна. С первого десятка серий мы поняли, что мы — так называемый развивающий сериал, который чем больше ребенок смотрит, тем больше он в него въезжает. Может быть, сегодня мы можем определить «Смешариков» как «философствующий семейный сериал». Не философский. Мы не используем слова «квинтэссенция» и «экзистенция», мы не говорим о Хайдеггере и Ницше. Но именно философствующий, потому что в истории культуры и цивилизации именно философствование дает почву и для профессиональной философии, и — что гораздо важнее! — для становления самих культуры и цивилизации. Достать людей из их повседневной жизни и хотя бы «на чуть-чуть» поместить в атмосферу философствования, размышления о себе, своей жизни, ее смыслах для нас остается самой важной целью.
Мы очень много получали такой реакции от подростков: «Вот случайно посмотрел „Смешариков“. Я из них уже давно вырос, теперь мне 14 лет, и вдруг я понял, что „Смешарики“ — это совсем не про то, про что я смотрел в восемь лет». И это правильно, мы на том и стоим. Поэтому этот курс мы абсолютно точно собираемся продолжать — даже не потому, что этого хотят и родители и дети. Кстати, чего хотят дети, ни родители, ни мы толком не знаем. Да и дети сами не «знают»: они могут только почувствовать. Если им нравится мультик, они будут его смотреть в прямом смысле раз 30–50. Если мультик не нравится, они все равно его один раз досмотрят, но потом скажут: «Нет-нет-нет, не надо». Второй и третий разы они уже смотреть его не будут. Сейчас мы проводим фокус-группы в одной частной питерской школе, но с аудиторией чуть-чуть старше, чем наша целевая, — это 1–3-й класс. Показываем им новые серии и смотрим, на что они реагируют, а на что — нет. И получаем очень важные для нас результаты.
Сейчас такие требования выдвигаются, мне кажется, к очень многим мультфильмам. В этом смысле американская мультипликация взяла курс на социальные темы. Например, «Холодное сердце», где рушится история о принцессе, которая должна быть счастлива с принцем. Да и сама принцесса сегодня — это не обязательно добрая героиня. «Холодное сердце» говорит о феминизме, и это сейчас важно. Планируете ли вы отражать социальные веяния в новом сезоне?
А нельзя ли предпочтения детей исследовать так: взять за последний год самые популярные мультфильмы, посмотреть, на какие темы они говорят, о чем шутят и из этого вывести среднее арифметическое на тему того, что интересно детям, что — не очень, что смешно, а что — не смешно?
Нет, так делать не имеет смысла: так мы берем уже исследованную аудиторию, исследованные предпочтения и работаем с ними, повторяя успехи и неудачи. Но вот вам телепример конца 1980-х годов. Центральное телевидение неожиданно для всех и для себя показывает «Рабыню Изауру» — сериал, купленный задарма. Ставит его чуть ли не в прайм-тайм, потому что тогда, по сути, нечем было завлечь к телевизору колоссальную аудиторию российских женщин в возрасте 50+, и получает огромную долю, потрясающие рейтинги. Выясняется, что сердцу страдающей сибирской домохозяйки вдруг чем-то так важна эта бразильская вампука по роману 1875 года, эта откровенная фальшь дешевой картинки, этот «оперный» драматизм. А ЦТ поставило его просто потому, что эфир нужно было чем-то закрывать, — и вот так случайно наша аудитория попала на новую жанровую территорию. Никто и никогда не думал, что она до сих пор будет одной из центральных. Женщины старше 50 лет и сейчас живут этими историями, хотя теперь они снимаются в более современной стилистике. Поэтому «давайте посмотрим на то, что сделано, выберем из этого самое удачное и сделаем похожее», на мой продюсерский взгляд, заранее проигрышный вариант. К сожалению, приходится все время рисковать. Голливудские продюсеры хорошо это знают. Они понимают, что из 10 планируемых блокбастеров один-два фильма выстрелят, три-четыре войдут в ноль, а остальные обрушатся. Но самое удивительное, что никто из них не может заранее «вычислить», какие именно один-два выстрелят.
У «Диснея» недавно вышел мультфильм «Вперед», и в России из него вырезали гомосексуального персонажа, женщину-циклопа с розовыми волосами. «Пиксар» сделала мультфильм «Аут», где главные роли у двух гомосексуальных персонажей. Понятно, что в России есть закон, запрещающий показывать детям такие мультфильмы. А если бы его не было? Как вы считаете, стоит ли в России показывать детям такие мультфильмы?
Здесь круг проблем значительно шире: речь в принципе должна идти о наличии сексуального образования, причем для взрослых. Это важно в том числе и для улучшения демографической ситуации. Дело в том, что во всем мире область сексуальной жизни до сих пор практически табуирована. Конечно, революция 1968 года много чего сделала: теперь нет «правил сексуальной жизни», есть нюансы уклада сексуальной жизни каждого человека. Давайте хотя бы донесем эти веяния до нашего родительства, до их картины мира. И пусть уже они сами решают судьбы своих детей, пока те позволяют им это делать.
Следующая подобная проблема — отображение ранее табуированных тем семейной жизни в медиа, которое здесь играет роль огромной и неформальной сферы образования. Именно эту роль в начале 2000-х годов сыграла скандальная и рейтинговая программа «Окна» на ТНТ с ведущим Дмитрием Нагиевым. Все якобы семейные ситуации, как сейчас мы знаем, там разыгрывалось актерами. Но смысл этого псевдодокументального шоу был совсем в ином: впервые в отечественном публичном — да еще телевизионном! — пространстве перед нами разворачивались, а потом еще и подробно обсуждались всеми сторонами, психологически крайне напряженные сцены из обыденной семейной жизни. Семья, как известно из социальной психологии, — это «зона тлеющего конфликта». Там, конечно, были и сексуальные проблемы, и детско-родительские, и адюльтеры, и прочее. «Окна» несли огромной аудитории мощное расширение картины мира: о чем уже можно говорить публично и о чем еще нельзя. О культурных табу в бескрайней области всей сексуальной жизни человека. Подобного рода телепрограммы малаховской «желтизной» не заменишь. Но культурный процесс необратим: «сор» (наша сексуальная жизнь) уже вынесен из избы, и его уже не заметешь под ковер.
Кстати, забыл сказать о доброте главных героев. Есть огромные проблемы табуированности отдельных островов и архипелагов человеческой культуры, которые значительно глубже факта, добрый ли главный герой или нет, светлокожий он или нет. А детектив, например, не обязательно честный и тонкий. То, что подобное усложнение мира приходит к детям, мне кажется очень позитивным фактом. Сказки — всегда сказки, но жизнь от них отличается все сильнее. Сегодняшняя задача сказочника — расширять романтический мир сказки до психологической сложности обыденной реальности. Это, например, успешно проделала сага о Гарри Поттере.
Вернемся к «Смешарикам». Вы говорили, что в самом начале сериала было 20 прототипов героев, а осталось всего девять. Как вы их выбирали и на что ориентировались?
Это был 2002 год, тогда мы целый год готовились к запуску. У нас было два героя: Моха и Кроха, это две мушки-близнецы. Но по масштабу они очень маленькие, так что у нас были бы большие проблемы на общих и крупных планах. У нас был персонаж-гусь, который стал в итоге Пином. Там проблема была другая: у него была сильно вытянутая шея, он выбивался из общего решения рисовать всех зверей круглыми. Сначала мы подумали, что это хорошо, но потом решили нарисовать его без шеи. А художник сказал: скорее всего, получится пингвин. Я говорю: это же круто! И сразу стало понятно, что у него должен быть акцент. Еврейский, грузинский, немецкий, эстонский: мы хотели смешать вместе все самые узнаваемые. На озвучке, правда, так вышло, что Пина записали только с немецким акцентом. Но он был настолько сочен и ярок, что сразу прилип к нему.
Нюша раньше была коровой. Она называлась Коровушка, а поросенком был подросток-диджей Свин. Он ходил в больших наушниках и ни на что не обращал внимания. Потом мы от них отказались и сделали одну Нюшу: мы хотели реабилитировать в России образ свиньи и показать, что свинки бывают такие розовые, замечательные. Мы не брали совсем стандартных животных — например, зайца, лису, медведя, собаку, кошку, мышку.
cinematographua
Записки продюсера
Помнится, когда «Смешарики» только появились, и в анимационном сообществе, и просто в образованных кругах модно было их ругать. Но потом, в какой-то момент отношение изменилось, и сейчас у «Смешариков» хорошая репутация. Ты помнишь, когда произошел этот перелом?
Думаю, примерно в 2006-2007-м году. Прохоров (Анатолий Прохоров – художественный руководитель проекта. – М. Т.) именно так и прогнозировал, что сначала проект будут ругать, потом хвалить. Но, знаешь, для нас это было не так уж важно. Мы не стремились делать фестивальный проект и за хорошей критикой не гнались.
Ну, тебе-то легко говорить. Ты – бизнесмен, с тебя и спроса нет. А вот мужеством Прохорова можно только восхититься. Ему сильно доставалось: он же интеллектуал, культуролог, а тут вдруг «Смешарики»…
Если бы не Прохоров, то, наверное, «Смешарики» и стали бы тем, за что их изначально принимали. Чем-то вроде « Лунтика ». Второго дна, аллегорий, интеллектуального юмора – всего этого бы не было. Как раз Прохоров сначала вместе с Лебедевым, а потом с другими сценаристами, добивался, чтобы «Смешарики» были более умными и взрослыми.
А как вообще начинались «Смешарики»?
У нас была компания, которая занималась разработкой компьютерных игр. Мы сделали около 400 игр, и уже хотелось сделать какой-нибудь большой проект. А мы все, конечно же, любили мультфильмы. И однажды, когда мы делали компьютерную игру про кондитерскую фабрику, то Маша Колесникова нарисовала эскизы забавных круглых персонажей.
Помнишь какое-нибудь знаковое событие, после которого ты почувствовал «ура! получилось! это успех»!
Не уверена, что я именно об этом чувстве спрашивала. Скорее об ощущении успеха, победы… Может, в момент вручения Госпремии, или при виде детей, радостно приветствующих ростовую куклу Кроша…
Знаешь, у меня есть такая психологическая особенность: когда что-то удается, и все вокруг радуются, я сам этот успех редко принимаю на свой счет. Грубо говоря, я не сильно умею радоваться победам.
Вообще-то, мы изначально не собирались ничего производить сами. Но когда мы вели переговоры с лицензиатами, то не смогли с ними договориться о нормальных условиях. Мы же были пионерами, успешных русских мульт-сериалов до этого не было, и лицензиаты не верили, что проект может быть большим и долгосрочным. А поверить должны были не только они, но еще и магазины. Поэтому мы действительно начали сами производить и продавать некоторую продукцию. Хотели привлечь внимание торговых сетей и расшевелить лицензиатов. Но начать какое-то дело иногда проще, чем закончить. И в каком-то формате торговое направление существует у нас до сих пор. Оно не является приоритетным и последние несколько лет мы планомерно его сокращаем.
Торговля – это совершенно другой бизнес. Как и с любым бизнесом, нужно в ней разбираться, понимать ее, любить. Для меня же торговля – это точно не любимое дело.
А какое любимое?
Создавать новые миры, персонажей, проекты… Ощущение причастности к этому бесспорно доставляет мне эмоциональное удовольствие. Если же брать более широко, мне нравится делать то, что в России считается невозможным.
Делать невозможное? Отлично звучит.
Только не такое невозможное, которое невозможно никогда и нигде в мире. У меня как раз нет амбиций совершать мировые открытия. Наш приоритет – именно российский рынок. Если на Западе что-то получилось, то почему нельзя повторить этот успех у нас?
А как же экспансия нашей анимации на зарубежные рынки? Это ведь тоже из сферы невозможного…
Да. Поэтому зарубежными продажами мы тоже занимаемся.
Много стран уже удалось охватить?
На данный момент так или иначе «Смешарики» присутствуют, наверное, в 60-70 странах. Последнюю сделку мы заключили сразу на 16 стран арабского региона. Но вообще, я в какой-то момент уже перестал считать.
Насколько сериал успешен за рубежом?
По-разному. Например, в Польше, в Венгрии, где нас показывает Nickelodeon, «Смешарики» имеют очень хорошие рейтинги и опережают многие собственно Nickelodeon’овские проекты. В Португалии были хорошие результаты. В Китае.
Очень много зависит от телеканала: устраивает ли канал сериалу промоушн, в какое время его ставит. Показывает ли одноразово готовый сезон или, как Nickelodeon, делает постоянную ротацию старых и новых серий, обеспечивая постоянное присутствие сериала.
Что именно не нравится немецким или американским ТВ-редакторам?
Есть множество вещей, которые у нас смотрятся нормально, а за рубежом выглядят дико. Редакторы находят какие-нибудь намеки на расовые проблемы – хотя, как ты понимаешь, никаких расовых проблем мы не затрагиваем. Или еще что-нибудь неполиткорректное усматривают. Например, когда у нас Копатыч обжирается медом, или когда Лосяш в серии «Бабочка» вдруг начинает считать себя бабочкой… Такие моменты могут смущать зарубежных ТВ-редакторов.
Нууу… у нас они тоже вызывают иногда реакцию. Например, многие считают, что в серии «Бабочка» речь идет о смене ориентации…
Так вы вкладываете такие подтексты или нет?
Это мы оставим за скобками. (Смеется) Если же серьезно… В том ведь и заключается концепция сериала: фильмы для детей, которые были бы интересны взрослым тоже… Детям посмеяться, взрослым – задуматься о чем-то. В любом случае, даже если какие-то специфические темы присутствуют, это никогда не прямой текст, а иносказание, басня…
Хорошо, с зарубежными продажами все понятно. А как в стране дела обстоят? Вот лет 6-7 назад, помнится, ты говорил, что анимация у нас практически не зарабатывает на продажах DVD, например. Что-то изменилось с тех пор?
Конечно, параллельно бурно развивается Интернет. И доходы от размещения в Интернете ежегодно увеличиваются в разы. Но так как они растут «с нуля», то в реальных деньгах получаются все равно мизерные суммы. Возможно, лет через 5-7 вся цифровая дистрибуция сравняется с тем уровнем хоум-видео, который был 3-4 года назад.
А что с ТВ? Они тоже по-прежнему платят скромные деньги?
Телевидение в последние годы подросло за счет рекламы и прочих доходов. И даже если речь идет о скромных деньгах, то все равно эти суммы заведомо выше, чем 5 или 10 лет назад.
Помнится, мне называли страшную цифру: 300 долларов за час…
Нет, 300-500 долларов за час – это средняя цифра для региональных каналов. И она никак не изменилась. Даже в некоторых случаях она может до 100-200 долларов опускаться. Это символическая сумма, то есть проект отдается, считай, бесплатно. Средне-нормальные цены на права существенно выше. Но даже если считать, что права стоили бы, положим, 60 тыс. долларов за час, то производство стоит 5-15 тыс. долларов за минуту. То есть производителям удается вернуть максимум 20%, а обычно даже меньше.
Другое дело, если ТВ-канал участвует в софинансировании проекта. Но в России пока такого опыта с анимацией нет. Сейчас только-только начинаются какие-то осторожные эксперименты. По меньшей мере, у некоторых ТВ-каналов есть готовность к переговорам на эту тему.
Ты обмолвился в начале нашего разговора, что сам любишь мультики. Есть какие-нибудь фавориты среди сериалов – наших или зарубежных?
Мне приходится смотреть очень много сериалов и фильмов, но у меня уже испорченное восприятие. Конечно, я иногда получаю удовольствие, но в основном я скорее оцениваю, как это сделано. В свое время очень интересно было смотреть «Губку Боба». Многие ведь этот сериал ругают, говорят, что он зомбирует детей. А при этом у него колоссальный мировой успех, и он много раз становился «лицензией №1» в мире. Мне было интересно понять феномен «Губки Боба». И чем больше я вникал, тем больше убеждался, что проект действительно гениально сделан. Я не говорю о художественной стороне, поскольку мне бы не хотелось вдаваться в культуроведческие споры. Но в целом проект придуман очень интересно. А из последних сериалов… «Время приключений», пожалуй, был для меня открытием.
Но вообще, знаешь, я не телезритель. В кино люблю ходить, а телик вообще не смотрю.
Хорошо, тогда давай отвлечемся от сериала и поговорим про полный метр. Считаешь ли ты « Смешарики. Начало » удачным опытом? Сборы, помнится, были не «богатырские»…
Не «богатырские», да. Конечно, я скорее недоволен тем, как проект вышел и как он собрал. Особенно, если сравнивать с « Богатырями », а нас сравнивали, поскольку мы выходили в одно время. Но нужно помнить, что у «Богатырей» это была четвертая часть, а у нас первая.
Зато у вас за спиной был успешный сериал…
Для кинотеатров это не аргумент.
При чем здесь кинотеатры?
Мы делали большие фокус-группы в разных городах и вместе с Movie Research проводили большой опрос по экзит-пулам (то есть на выходе из кинотеатров). Реакция в целом на фильм была очень положительной. Порядка 87% говорили, что остались довольны. И большинство были «готовы рекомендовать фильм своим друзьям и знакомым». Если сопоставлять эти опросы с такими же опросами по другим фильмам, наши позиции были очень хорошими. В общем, да, мы недособрали. Но не потому, что у нас плохой фильм…
Да. То, что мы сейчас снимаем, намного выше по уровню, чем первый фильм. Не хочу прежде времени делать радужные прогнозы, но даже по сценарной проработке эта история куда более насыщена и интересна, чем первая.
Можешь рассказать, какие проекты еще у тебя в планах? Я так понимаю, ты теперь не только «Смешариками» занимаешься?
Я бы хотел уточнить одну вещь относительно моей роли и в «Смешариках», и в других проектах. Я никогда не был, и не приписываю этого себе, ключевым автором или таким продюсером, который интенсивно участвует в разработке проекта. Я занят скорее не содержательной частью, а правильной упаковкой и дальнейшей коммерциализацией. И для этих целей была сформирована некоторое время назад компания «Рикки-груп», которую я возглавляю и развиваю.
Кажется, был еще проект под названием «Маго»: о нем давно поговаривают. Когда его можно будет увидеть?
Да, мы взялись за сложную тему – проект для девочек-подростков. «Маго» находится в разработке уже больше двух лет, мы потратили куда больше ресурсов, чем планировали, и чем дальше мы в этот проект углубляемся, тем больше понимаем, насколько сложная это аудитория.
В результате сейчас мы разрабатываем сразу три направления в рамках проекта. Первое – это игровое кино, второе – анимированный комикс для Интернета, а третье – полноценный анимационный сериал. Все эти эксперименты мы планируем завершить к началу следующего года, а после этого уже будем делать фокус-группы и окончательно определяться, в каком направлении развивать проект дальше.